«А что у них?», или Размышления о сравнительном конституционном исследовании судебной власти#
Дмитрий Кузнецов, исследователь, Университет Гётеборга (Швеция); преподаватель, Свободный Университет (Латвия)
DOI 10.55167/d2da57fc463e
Аннотация. Чаще всего при обсуждении метода, целей и предмета сравнительного конституционного права дискуссия (если она не сводится к банальному описанию существующих явлений) строится на перечислении сходств и различий тех или иных правовых систем, институтов или характеристиках источников права. Такой подход был и во многом остаётся типичным для университетских курсов «конституционного права зарубежных стран». Сравнительное правоведение А. А. Мишина, как представляется, исходит из отличной идеи универсальности принципов и ценностей, лежащих в основе конституционного права; она пытается смотреть на сущность правовых феноменов, составляющих основу правовых систем, обсуждая не внешние признаки тех или иных институтов права в своего рода каталоге разрозненных государств или правовых семей, выбор которых обусловлен традиционным делением на «более или менее важные» страны, — а пытается установить холистические институциональные закономерности развития конституционного права. Настоящее эссе станет попыткой применить идеи Августа Алексеевича к современному конституционному праву и обсудить роль компаративного метода в изучении этой, основной для любой правовой системы, отрасли.
Abstract. Most often, when discussing the method, goals, and subject of comparative constitutional law, the discussion (if it is not reduced to a banal description of existing phenomena) is based on listing the similarities and differences of certain legal systems, institutions, or characteristics of sources of law. Such an approach was and, in many ways, remains typical for university courses on “constitutional law of foreign countries.” A. A. Mishin’s comparative legal studies seem to be based on an excellent idea of the universality of principles and values underlying constitutional law; it attempts to look at the essence of legal phenomena that form the basis of legal systems, discussing not the external features of certain legal institutions in a kind of catalogue of disparate states or legal families, the choice of which is conditioned by the traditional division into “more or less important” countries, but tries to establish holistic institutional patterns of development of constitutional law. This essay will attempt to apply the ideas of August Alekseevich to modern constitutional law and discuss the role of the comparative method in the study of this branch, which is fundamental to any legal system.
Ключевые слова: сравнительное конституционное право, судебная власть, конституционный контроль, сравнительный метод, вертикальная компаративистика, климат.
Of the worship of Diana at Nemi some leading features can still be made out»1.
Введение#
Когда мои студенты просили посоветовать им хорошую книгу по сравнительному конституционному праву (такое название дисциплины мне всегда казалось более корректным и отражающим идею конституционализма, как некоторой идеологии, независимой от государственных границ, в отличие от «конституционного права зарубежных стран», которое мне представлялось, наоборот, слишком ограничивающим и направленным на противопоставление), я называл книгу Августа Алексеевича Мишина, по которой учился сам и которую до сих пор считаю одним из лучших и самых понятных учебников по праву, написанных по-русски. Это единственный русскоязычный учебник, который у меня сохранился в печатном варианте.
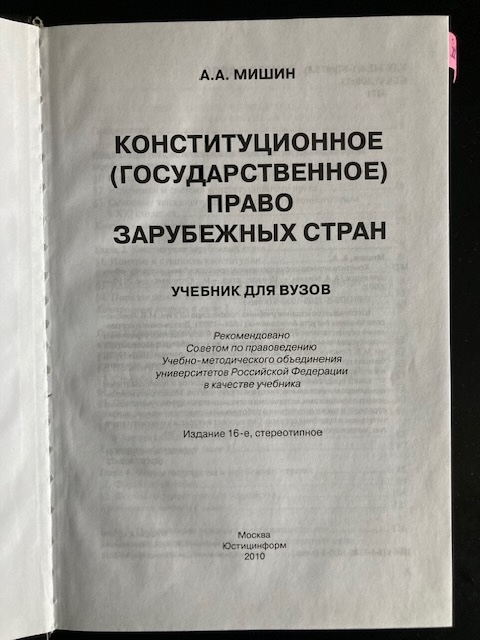
Пара слов о заглавии книги. Думаю, что название, под которым книга переиздаётся, — это своего рода дань традиции, изучавшей конституционное (государственное) право других стран, которое, как презюмировалось, отличалось от советского, единственно-верного. Идея Мишина в этой книге иная. Она, на мой взгляд, состоит в том, что конституционное право — это область права, которая, суть, включает некоторый набор ценностей и принципов, лежащих в основе любой национальной системы права2. Отсюда проистекает и сравнительный подход, метод, на основе которого строится книга и который, на мой взгляд, является наиболее подходящим для изучения конституционного права. Сомнительным при этом кажется разделение конституционного права на его «российскую» и «зарубежную» части, однако это, к сожалению, далеко не единственная или не самая главная проблема российского юридического образования и российской юридической науки, среди которых я бы выделил отсутствие связи с практикой, догматичность и бессмысленность большой части секундарных источников, которые предлагаются для изучения3.
Цель данного текста — попытаться понять, в какой мере идеи Августа Алексеевича актуальны сегодня, а также ответить на вопросы о том, зачем юристам в принципе нужно изучать конституционное право и заниматься компаративистикой, а также как это делать. Наконец, эссе рассуждает о том, что сравнительный метод в конституционном праве позволяет нам понять о конституции (в широком смысле) и устройстве правовой системы.
Исходя из приведённых выше целей, текст будет состоять из двух основных частей. Первая часть размышляет о том, что такое современное сравнительное конституционное правоведение и как оно может быть полезно при изучении текстов судебных решений. Вторая часть рассматривает значение и применение сравнительного метода для изучения судов, как одного из конституционных органов, а также пытается определить вопросы, на которые надлежит ответить исследователю при применении сравнительного метода к судебной власти.
Два важных для этой работы уточнения. Первое: поскольку конституционное право — это самая масштабная область права, а помноженное на количество государств и территорий с конституционно-правовыми особенностями — необъятная в рамках одной статьи или книги, я в основном буду использовать примеры из близкой мне области экологического права4 и борьбы с изменением климата, а также буду преимущественно говорить о судебной ветви власти, как «слабейшей из всех», но вместе с тем, как будет показано на примерах ниже, наиболее склонной применять сравнительный метод. Второе: я рассматриваю данный текст не как строго академическую научную статью, а скорее как эссе, призванное доказать gesamtkunstwerk природу рассматриваемой области юриспруденции и её связь с эстетическим началом в праве, что отражается и на форме данного текста. Формула Фомы Аквинского о том, что прекрасная или совершенная вещь (явление) обладает характеристиками integritas (целостность), consonantia (соразмерность или пропорциональность), и clraitas (ясность)5 кажется мне важной как для написания юридических текстов, так и для разговора о них, достигающего некоторой степени обобщения.
1. Роль сравнительного метода в судебной практике#
Зададим, вслед за Марком Ташнетом, вопрос «зачем сравнивать?»6.
Ответы могут различаться. Например, сравнительный метод нужен для признания роли «международных акторов» и для «заимствования из других правопорядков»7; для понимания европейских и иных интеграционных процессов8 и практической полезности для законодателей и судей9; наконец, для того чтобы вписывать существующую правовую систему в контекст и понимать, насколько она оторвана или, наоборот, связана с другими правовыми системами, а также с какими из них она связана слабее и сильнее всего.
А. А. Мишин даёт следующий ответ. Сравнительное конституционное право помогает установить содержание принципов и основных концепций, свойственных разным правопорядкам, главным из которых является принцип верховенства права10. Именно обеспечением принципа верховенства права руководствуются суды (должны руководствоваться) при рассмотрении споров, в том числе конституционно значимых.
Сравнение в конституционном праве может быть как качественным, так и количественным11. Оба подхода важны, но первый интересует меня больше, так как позволяет сосредоточиться именно на тех источниках, которые кажутся важными исследующему их, и помогает практически до бесконечности глубоко изучать выбранный объект. Качественное сравнительно-правовое исследование является также более предпочтительным, потому что позволяет отграничить те ситуации, когда зарубежные конституционные источники используются инструментально12, например, для того чтобы показать, что позиция суда по тому или иному вопросу является общепринятой или, наоборот, что не существует какого-либо консенсуса относительно избранной позиции13, от непредвзятого научного исследования14. В этом смысле качественное сравнительно-правовое исследование, если применяющие его учёные открыты относительно их методов и критериев, может быть более убедительным и выглядеть более объективным, чем то, которое останавливается исключительно на доктринальном подходе15. Последний меня как читателя далеко не всегда убеждает в правоте пишущих. Доктринальный анализ судебных решений может быть полезен для комментария или развития позиции суда учёными, но для комплексного исследования такой подход может быть проблематичным, так как он даёт мало понимания относительно критериев выборки или игнорирования других решений, не подтверждающих позицию комментаторов.
Сравнительное конституционное право исследует три основных блока проблем16: язык, институты и отношение граждан к конституционным положениям17 или, иными словами, легитимность основного закона и отдельных его положений в глазах граждан и общества. При этом сравнение может проводиться с целью формулирования доктрины конституционного права, рефлексии относительно роли конституционных органов (преимущественно высших судов) в разрешении конституционно-правовых вопросов или же исследования глубины имплементации тех или иных правовых доктрин18 в национальные правопорядки19.
Язык, которым оперирует конституционное право той или иной страны — первый и наиболее заметный уровень сравнения. Даже сам термин «конституционное право» используется далеко не везде и не во все периоды времени. Если, скажем, в англоязычной литературе, как минимум с XIX века, для обозначения данной области права используется прилагательное constitutional20, а в литературе, изучающей французскую правовую систему — constitutionnel21, то, например, шведская правовая система до недавнего времени говорила о совокупности норм, составлявших более широкое публичное право (offentlig rätt), в котором конституционный элемент (författningsrätten) — явление «недавнее и ещё не изученное»22. Если рассмотреть историю российского права, то до 1993 года резоннее было говорить о государственном праве, нежели о конституционном, предполагающем в своей основе подчинение государства некоторым нормам, которые даже оно не в силах преодолеть — чего в большевистской и советской, по своей сути антиправовой, системе не было в принципе. До Февральской революции говорить о конституционном праве тоже едва ли справедливо как в силу отсутствия самого имперского конституционного акта (споры относительно природы Манифеста 17 октября 1905 года оставим за пределами данного текста), так и в силу природы российской государственности, унаследованной большевиками от Российской Империи.
Другой классический пример — это термин, используемый для обозначения принципа верховенства права (rule of law в английском языке, l’état de droit — во французском, rechtsstaat — в нидерландском, rechtsstaat — в немецком и т.д.), о содержании и разных подходах к пониманию которого написана не одна сотня текстов23, и толкованию которого во многом посвящены судебные конституционные споры.
Второй уровень сравнения — институты. Так, значение и роль судебной власти менялись с течением времени, и если максима о том, что «только суд может говорить о том, что является законом»24 была настоящей революцией для своего времени, то фраза о XXI веке, как «о веке судебной власти», уже вполне кажется трюизмом25. За 200 лет функции и понимание роли судебной власти изменились. Однако можем ли мы понять это без обращения к сравнительному методу, как в исторической перспективе, так и с точки зрения эволюции содержания этого института через призму его функций, субъектов обращения, процедуры формирования судебных органов (назовём лишь некоторые характерные черты)? Наполнение оболочки, которая называется «суды», неодинаково, и для проведения корректного сравнения этого содержания необходимы и функциональный анализ, и, например, анализ роли индивидуальных мнений, если в судебной системе конкретной рассматриваемой страны имеет значение партийная (политическая) принадлежность судей (США) или народных заседателей (Швеция).
Отношение граждан страны к конституции (и в нашем — более конкретном примере — к судебной власти) — третий уровень сравнения. Требование о соблюдении своей же собственной конституции кажется более значимым в контексте правового развития страны, чем, безусловно, героический поступок небольшой группы людей, протестующих против действий своего государства, так как это требование, обращённое к последнему, подразумевает прежде всего изменение в восприятии роли основного закона и осознание того, что он ограничивает не только индивидов, но и само государство. При том, что в конкретный день 1965 года судьба отдельных людей кажется (и справедливо) более значимой, чем некоторые абстрактные требования26.
Суды в такой парадигме становятся самым логичным местом разрешения потенциальных конфликтов между индивидами и государством при условии, что наряду с осознанием роли конституции, в обществе существует и доверие к судебной системе. Соответственно, если мы хотим сравнивать судебные системы разных государств, мы неминуемо приходим к тому, что говорим и об отношении общества и граждан к судебной системе — её своего рода субъективном элементе и неотъемлемой части отношения граждан к основному закону27.
Названный выше список ключевых проблем, возникающих при обсуждении сравнительного метода в праве, безусловно, не исчерпывающий28. Однако без ответа на вопросы о языке, институциональном дизайне и восприятии того или иного правового феномена разговор о зарубежных институтах не уйдёт дальше занимательной географической справки. Не менее важно то, что такой анализ должен быть динамическим29, т. е. рассматривать объекты сравнения в их изменчивости и непрерывной трансформации, а также взаимодействии с другими органами, институтами и обществом.
Поскольку в конечном итоге именно судебная власть толкует закон, а суды функционируют во всех, даже самых автократических системах, логично рассмотреть, как сама судебная власть подходит к использованию сравнительных методов при разрешении конституционно значимых споров.
Обратимся к качественному сравнению30 некоторых примеров из судебной практики по экологическим делам (делам, связанным с изменением климата), которые рассматривались в высших судах. Для примеров я выбрал: 1 — наиболее схожие по теме, 2 — имеющие своё чёткое отношение к конституционному контролю, 3 — сравнимые на разных уровнях дела31.
Одним из наиболее известных является дело «Ургенда» (Urgenda zaak), итоговое постановление по которому Верховный суд Нидерландов вынес в 2019 году32. В этом деле неправительственная организация, борющаяся с изменением климата и пытающаяся заставить правительство принять более решительные шаги для исполнения предполагаемых международных обязательств Нидерландов, пыталась в рамках стратегического судебного дела доказать, что Королевство должно было сократить выбросы CO2 как минимум на 25 процентов к 2020 году вместо 20 процентов в сравнении с выбросами 1990 года, на которых настаивал ответчик — правительство Королевства33. Постановление, как и процесс в целом, длившийся в течение нескольких лет, послужили предметом пристального анализа в литературе, СМИ и в профессиональном сообществе34. Вместе с тем само постановление ВС Нидерландов содержит большое количество компаративного материала и ссылок на зарубежное регулирование (преимущественно право Совета Европы35) и международно-правовые нормы36. Так, например, Суд рассмотрел концепцию позитивных обязательств государства на примере Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сославшись на толкование статей 2 (право на жизнь) и 8 (защита частной и семейной жизни) Европейским Судом по правам человека37. В целом ВС использовал четыре основных блока аргументов: научные данные по изменению климата, международно-правовые обязательства государства, конституционные обязательства Королевства и принцип разделения властей.
Постановление по делу «Ургенда» вдохновило большое количество схожих судебных процессов по всему миру38. Особый интерес в контексте данного эссе для нас представляют несколько дел. Первое из них — это т. н. дело «Нойбауэр», постановление по которому в 2021 году вынес Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС)39.
ФКС рассматривал дело (несколько объединённых в одном производстве конституционных жалоб) с точки зрения защиты индивидуальных конституционных прав и прав будущих поколений. Как и в нидерландском деле, заявители жаловались на бездействие федерального правительства и предполагаемое нарушение фундаментального принципа уважения достоинства человека. Аргументацию Суда также можно разделить на несколько ключевых блоков. Во-первых, большую часть текста занимает анализ и прямое цитирование научных данных, касающихся изменения климата. Во-вторых, суд непосредственно обратился к сравнительному методу, включив аргументацию ВС Нидерландов и прямо на него сославшись. В-третьих, ФКС обозначил конвенционные обязательства Федеративной Республики и указал, что источником позитивной обязанности правительства бороться с изменением климата являются право на жизнь (аналогичный аргумент, использованный в деле «Ургенда») и, новый аргумент в сравнении с описанным выше нидерландским делом, — право собственности, которое, по мнению ФКС, неминуемо пострадает в случае климатических изменений40. В-четвёртых, практически прямо цитируя коллег, Конституционный суд постановил, что «законодатель нарушил основные права непринятием достаточных мер для исполнения обязательств по сокращению выбросов таким образом, который бы уважал основные права»41. Суд сослался на принцип пропорциональности, которым правительство должно руководствоваться при определении экологической политики и объёмов выбросов. При этом «риск для прав будущих [поколений] и риск серьёзного нарушения основных прав в будущем не сдерживаются должным образом в настоящем»42. Наконец, Конституционный суд уделил большое внимание особенностям применения принципа разделения властей относительно климатических споров.
Так же, как и ВС Нидерландов, ФКС ФРГ практически сразу после публикации постановления на официальном языке опубликовал полный перевод на английский язык.
Третий пример важного климатического дела — это постановление Конституционного суда Колумбии 2018 года43. Заявители, граждане Колумбии в возрасте от семи до двадцати пяти лет, жаловались на то, что правительство не принимало должных мер по охране бассейна реки Амазонки. Они утверждали, что правительство посягало на право на жизнь, так как их ожидаемая продолжительность жизни превышает семьдесят восемь лет, а к середине XXI века климатические условия будут настолько плохими, что заявители не смогут реализовать своё конституционное право и дожить до предполагаемого максимального возраста. Суд признал жалобу приемлемой и постановил, что, действительно, бездействие правительства может привести к негативным последствиям для жизней заявителей.
КС Колумбии обратился к т. н. «моральным обязательствам», указав, что защита основных прав включает не только «индивида», но и «другого» — категория, которая должна трактоваться чрезвычайно широко, включая не только «человеческие существа», но также и сообщества живых организмов, природные объекты и ещё не рождённых детей, которые также обладают правом на благоприятную окружающую среду. Такие обязательства государства основаны на принципе солидарности и автономном значении природы44. Основываясь на принципе солидарности, Конституционный суд подтвердил необходимость уважения всех видов, а также то, что «[принцип] солидарности и инвайронментализм связаны до такой степени, что становятся одним и тем же»45.
При первом приближении кажется, что приведённые примеры — это иллюстрация унификации в праве и что суды приняли преимущественно одинаковые решения, отвечающие актуальной повестке, и здесь мало материала для компаративного анализа. С одной стороны, если остановиться только на результате этих разбирательств, то так и есть. С другой стороны, если воспользоваться приведёнными выше критериями — языка, характеристики судебного органа и отношения к судам, мы увидим более сложную картину.
В Нидерландах, где текст конституции прямо запрещает судебный конституционный надзор46, а нормы международного права имеют прямое действие и приоритет над нормами основного закона, Верховному суду удалось принять необычное и уникальное для правовой системы решение. Судебная система опиралась на общественный консенсус и веру граждан в то, что именно судебными средствами можно заставить правительство принять климатические меры. Решение говорит не только о важности климатической повестки в судах, но и о том, что для конституционного права не менее важно — об изменении роли суда в правовой системе Королевства. ФКС ФРГ в силу своих институциональных особенностей и функций, заключающихся, прежде всего, в обеспечении баланса федеративных отношений47, а также имманентного скепсиса к разного рода активизму и популизму, укоренённому в обществе, избрал умеренный и в большой степени казуистический путь разрешения первого климатического дела в Германии. Конституционный суд Колумбии, в свою очередь, обратился непосредственно к конституционному тексту, не исключающему и более широкий, чем антропоцентричный подход, взгляд на права и фактически подтвердил то, что и так было закреплено в конституции.
Таким образом, проведя качественное сравнение трёх судебных актов на нескольких уровнях48, можно заключить, что в первом случае — ВС Нидерландов — произошла настоящая конституционная революция. Во втором случае — ФКС ФРГ — было принято очень осторожное и минимально-возможное прогрессивное решение. А в третьем случае — ВС Колумбии — не произошло ничего экстраординарного, а суд действовал в соответствии с конституционными ожиданиями49.
Рассмотрев в первой части судебные решения на конкретном примере стратегических климатических дел, в следующей части я обращусь к сравнению самих судебных органов.
2. Сравнительный метод в изучении судов#
Изучение конституционного права зарубежных стран в его традиционном подходе предполагает описание институтов или устройства государства и права (с упором на первом) без проведения значимых параллелей или погружения в суть описываемых феноменов. В изучении тех или иных государств упор делается на внешнюю сторону или какие-либо бросающиеся в глаза очевидные характеристики изучаемой группы стран, например, географического положения или схожего постколониального опыта50. Такое изложение материала напоминает картину «Урок анатомии доктора Тульпа», где участники действия смотрят куда угодно, только не на изучаемое тело. Параллель с описанием конституционного права ещё более занимательна тем, что, как и во времена медицины, не основанной на доказательствах, многие врачи строили гипотезы, построенные на чём угодно, только не на реальном анализе и изучении фактов или объективных физиологических явлений. Сам процесс исследования тела как будто бы уходил на второй план. То же происходит с наукой и учебной дисциплиной конституционного права зарубежных стран: описываются институты, формы права, перечисляются источники, но не даётся объяснение функционирования этих феноменов правовой действительности, не раскрываются принципы или ценности, на которых строится та или иная система. Но самое главное — не показываются сущностные взаимосвязи между институтами, а также не исследуется их взаимное влияние, то есть как будто бы описывается представление автора об этих явлениях и институтах, её или его мнение, часто имитирующее реальное научное исследование.

Урок анатомии доктора Тульпа
Можно сколь угодно долго рассуждать о «совершенствовании системы отправления конституционного правосудия» или «новых вызовах, стоящих перед конституционной системой», но эти рассуждения будут оставаться имитацией или игрой в бисер до тех пор, пока авторы будут игнорировать ключевые проблемы — роль институтов, языка актов и легитимности основного закона, а будут складывать слово «вечность» из кусочков мёртвой текстуальной формы51. В таких случаях «ленивое»52 сравнение или указание на «исторические философские идеи» делается либо с инструментальной точки зрения, о которой я говорил в первой части эссе, либо для демонстрации знаний автора, хотя сколько-нибудь значимого анализа таких идей, как правило, не дается53.
Вернёмся к примеру судебной власти, о которой мы говорили выше. Рассмотрим теперь изучение феномена конституционного надзора54, который в той или иной форме закреплён на конституционном уровне в подавляющем большинстве государств55. Традиционным способом рассмотрения этого правового явления было бы перечисление функций того или иного высшего судебного органа, указание на его компетенцию, порядок формирования и, возможно, упоминание его ключевых решений (в широком смысле)56. Однако это не использование сравнительного метода в праве. Здесь мы имеем дело с описанием правового явления, в чём, конечно же, нет ничего предосудительного57, но это лишь начальный этап сравнения. Такой подход не ответит на вопрос, почему в той или иной стране сложилась определённая модель судебного контроля, он не скажет, почему компетенция судебного органа либо очень ограничена, либо, наоборот, практически безгранична, да и, собственно, почему в некоторых странах конституционный надзор судебной власти не существует в принципе.
Попробуем провести сравнительно-правовое упражнение на хорошо всем известных примерах высших судебных органов Соединённого Королевства, Франции и США. В первом случае с конца XIX века в конституционном праве господствует доктрина парламентского суверенитета, предполагающая верховенство парламента действующего созыва и его несвязанность какими-либо предыдущими парламентскими решениями или решениями судебной власти58. Дайси сформулировал это правило как запрет судебного надзора над актами парламента59. Этот принцип был несколько ослаблен введением Акта 1998 года о правах человека, имплементировавшего Конвенцию о защите прав человека и основных свобод60, который предполагает некоторую форму проверки законопроектов (контроль a priori) на соответствие положениями ЕКПЧ. При этом консенсусным в науке всё ещё будет мнение о том, что «судейский активизм несёт смерть принципу верховенства права»61, и что доктрина парламентского суверенитета — это, по-прежнему, главный конституционный принцип, которому бы противоречило появление института конституционного контроля.
В случае с Францией важное историческое значение при рассмотрении особенностей судебного контроля имеет доверие или, скорее, недоверие судебной власти62. Ненависть к Ancien régime была во многом продиктована существованием квазисудебных органов — parlements63. В качестве лекарства от недоверия судебной системе, помимо физического уничтожения зданий, французская конституционная традиция выработала своего рода иммунитет против судебной власти, отрицающий конституционный контроль законодательных актов, как минимум, ex-post64. Ситуация начала немного меняться с появлением т. н. процедуры приоритетного конституционного вопроса (La question prioritaire de constitutionnalité — QPC), вступившей в силу 1 марта 2010 года. La QPC предполагает, что по запросам Государственного совета и Кассационного суда Конституционный Совет (квазисудебный орган) может проверить конституционность вступивших в силу законов, если есть сомнения в их соответствии правам и свободам человека65.

Parlement Бретани в г. Ренн, Франция. Здание значительно пострадало в 1790 году во время Революции, но уже спустя 14 лет ему снова была возвращена судебная функция. © Д. Кузнецов
Третий пример особенного отношения к судебной власти — США и создание Верховного суда. Как видно из даже беглого прочтения писем Федералиста66, судебная власть в государстве, строящемся на республиканских принципах67, — это «профессиональный орган», независимый от народного волеизъявления или популярной поддержки. В этом кроется как слабость, так и сила судебной власти: в отсутствие необходимости переназначения судьи могут выносить действительно независимые решения — с одной стороны, но при этом, учитывая элитистский состав судебного органа, его решения далеко не всегда будут соотноситься с настоящими потребностями общества или уровнем его текущего развития — с другой стороны.
С формальной точки зрения верховные суды Соединённого Королевства и США являются высшими судебными органами, КС Франции тоже движется в этом направлении, занимая в некотором смысле промежуточное положение между судебным органом и органом парламентского контроля, который изначально создавался для защиты прав парламентской оппозиции68. Состоят они из профессиональных судей (в США — изначально, в СК — с момента реформы Палаты лордов и создания Верховного суда с 2009 года); во Франции процесс формирования органа сложнее: он, например, автоматически включает в свой состав бывших президентов Республики, а члены Совета не обязаны иметь статус судей или даже юридическое образование69. При этом ВС США с самого своего появления не был зависим от Конгресса, ВС СК сформировался после разделения представительных и судебных функций Палаты лордов, то есть судебная функция отделилась от представительной, пусть и весьма специфической. Конституционный совет Франции же всё ещё в своей природе имеет неразрывную связь с Национальной ассамблеей и парламентским контролем.
Выше были рассмотрены историческое отношение к судебным органам и некоторые, самые бросающиеся в глаза институциональные особенности. А что же язык? Конечно, речь идёт не о том, что в двух органах судопроизводство ведётся на английском, а в одном — на французском. Я имею в виду их юридический язык (стиль, источники, которые суды используют). Здесь всё, как мне кажется, гораздо интереснее. Правовой позитивизм стал своего рода lingua franca юристов по всему миру, но для судебной власти это едва ли так, особенно когда дело касается толкования законопроектов и законов или проверки их на соответствие нормам высшей юридической силы. В этом смысле французский Конституционный совет в силу исторической традиции будет обращаться к писаному праву нормативных правовых актов и черпать легитимность своих обоснований в актах, отсылающих к другим актам, пусть даже таким неожиданным способом, как толкование преамбулы действующей и предшествующей конституции, как, например, в известном решении 1971 года о свободе ассоциации70. Язык решения будет предельно лапидарным, исключающим obiter dictum или обращение к доктринам71. В свою очередь, язык, которым чаще всего написаны решения верховных судов США и СК, будет метафоричным, не скрывающим, какие взгляды или доктрины разделяют судьи и далеко не всегда основанным на позитивном праве72.
В этой связи я вспоминаю лекцию одного из первых судей Конституционного суда ЮАР, Альберта (Альби) Сакса, прочитанную много лет назад в Санкт-Петербурге. Сакс говорил, что его судебные решения — это материализация общего принципа справедливости, который посредством трансформации в текст судебного решения приобретает силу нормы права. Вместе с тем мотивировочная часть (аргументация) решения приходит позднее, так как исход дела всё равно определится, исходя из принципа справедливости — в этом смысле судебное решение может являться «ложью», как разница между итоговым единственно верным разрешением и логическим путём, которым познающий субъект должен дойти до такого решения73. Исходя из такой логики, можно трактовать решения КС ЮАР или решения других судебных органов, принадлежащих к системе общего права, как попытку установить содержание того, что является справедливым, не опираясь на писаную норму, что во французской послереволюционной традиции, основанной на примате позитивных источников права, непредставимо.

Альберт (Альби) Сакс, 2017 год © НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург
Сравнение таких судебных решений с решениями континентальных судов должно проводиться не с точки зрения резолютивной или даже мотивировочной частей решений, а с точки зрения принципиального подхода судов к их роли и к процессу принятия решений, положенного в исторический и институциональный контекст. В этом будет, на мой взгляд, кардинальное или сущностное отличие толкования судебных решений учёными-правоведами и толкования текстов художественных произведений критиками или специалистами в области литературы. В последнем случае (по крайней мере, с точки зрения одного из распространённых подходов) контекст или личность автора («личность» суда или его природа, если вернуться к судебной системе) не важна и, наоборот, она только может помешать пониманию литературного произведения74. Для юристов, изучающих зарубежные суды и решения, все контекстуальные детали, наоборот, критически важны.
Как я писал в первой части, сравнительно-правовой метод является комплексным или многосоставным. Будучи, по существу, качественным, он включает в себя элементы институционального, дискурсивного анализа, а также не может обойтись без социологического и исторического элементов. Равно как к пониманию природы права возможны разные подходы или применимы разные теории, так и сравнительный метод в праве должен включать разные аспекты и разные способы осмысления исследуемых правовых феноменов. Предложенный Хартом аналитический подход к праву, хотя и преимущественно концентрируется на юридическом позитивизме, наиболее близко подходит к комплексному сравнительному методу, особенно если мы признаём важное значение языковых феноменов.
Рассмотрев примеры судебных дел, где применялся сравнительный метод, и сделав попытку сравнить некоторые высшие судебные органы, сформулируем перечень ключевых вопросов, которые юристы, применяющие сравнительный метод, должны задать себе в целях корректного применения метода. Отправным должен быть вопрос об историческом и культурном контексте формирования судебного органа. Следующий вопрос или серия вопросов — о функциях, порядке формирования органа. Третий вопрос должен быть задан относительно распределения компетенции между ветвями власти и/или государственными органами, то есть о том, каково конституционное положение судебного органа. Четвёртый вопрос — это то, какими доктринами, принципами или подходами руководствуется судебный орган при вынесении решений. Пятый вопрос — как эти доктрины и принципы влияют на язык судебных решений, а возможно, и на саму форму решения, его внешний вид75. Наконец, заключительный вопрос состоит в том, как судебные решения воспринимаются обществом, какова легитимность судебных решений в глазах общества.
Заключение#
В эпиграфе к этому тексту я привёл цитату из книги Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь», которая на примере одного малоизвестного древнего ритуала реконструировала сложнейшую систему верований, магического мышления и институциональных связей, существовавших в древнем мире. Что удивляет особенно сильно — это то, что книга, изначально призванная деконструировать один магический ритуал, показала взаимосвязь верований и культов, которые предположительно существовали во всех древних обществах, доказав, в конечном итоге, насколько люди в разных концах света похожи: они ценят одни и те же вещи, боятся одного и того же, заботятся (или ненавидят друг друга) одинаково. Не думаю, что что-то принципиально изменилось с доисторических времён. Право (оставим на время в стороне дебаты сторонников концепции естественного права и позитивистов) исходит из общей для всех людей потребности жить в согласии или хотя бы в некотором равновесии, руководствуясь общими принципами и ценностями. Думается, что цель сравнительного правоведения, особенно сравнительного конституционного права, помимо множества прикладных задач, состоит как раз в том, чтобы напоминать нам о том, что люди, независимо от того, где они живут, или паспорт какого цвета у них есть, стремятся к схожим вещам, разделяют схожие идеалы, которые в том числе отражаются во внешнем дизайне государства и права и их институтов. Сравнительное правоведение и сравнительное конституционное право, как его часть, при этом идут дальше, чем просто изучение права или правовой нормы в узком смысле. Сравнительный метод напоминает юристам о том, что каждая норма — это продукт определённого контекста, это нечто, находящееся в динамике и заслуживающее постоянного переосмысления.
Библиография#
Судебные решения#
КС РСФСР. Постановление от 14 января 1992 года № 1-П-У.
КС РФ. Постановление от 25 декабря 2020 года № 49-П.
SCOTUS. Marbury v Madison, 5 U.S. 1 Cranch 137. 1803.
Supreme Court of Israel. United Mizrahi Bank v. Migdal Cooperative Village CA 6821/93.
Conseil d’État. 6ème — 5ème chambres réunies. ECLI:FR:CECHR:2020:427301.20201119.
Constitutional Court of Columbia. Demanda Generaciones Futuras v Minambiente. STC4360-2018.
Nacka District Court, Sweden. Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case), pending.
Cour d’appel de Bruxelles. 30 November 2023. Klimaatzaak and others v the Belgian State, Wallonia, Flanders and the Brussels Region.
BVerfG, Order of the First Senate of 24 March 2021. 1 BvR 2656/18.
De staat der Nederlanden (ministerie van economische zaken en klimaat) tegen stichting Urgenda. ECLI:NL:HR:2019:2006.
ECtHR. Duarte Agostinho and Others v Portugal and Others (dec.) no. 39371/20, 9 April 2024.
ECtHR. Application no. 53600/20 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and others v Switzerland [GC] 9 April 2024.
Conseil Constitutionnel. Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.
Conseil Constitutionnel. Décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024.
Научная литература#
Allan, T. R. S. Constitutionalism at Common Law: The Rule of Law and Judicial Review // Cambridge law journal. 82, no. 2 (2023): 236-64. URL: https://doi.org/10.1017/S000819732300017X.
Barak, Aharon. The Judge in a Democracy. Princeton University Press, 2006. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt7szb4.
Barak, Aharon. Proportionality and Principled Balancing // Law & ethics of human rights. 4, no. 1 (2010): 1–16. URL: https://doi.org/10.2202/1938-2545.1041.
Bellamy, Richard. Which Republicanism, Whose Freedom? // Political Theory. 44, no. 5 (2016): 669–78. URL: https://doi.org/10.1177/0090591716663361.
Bingham, Tom. The Rule of Law. London, New York: Allen Lane, 2010.
Burgers, Laura. Should Judges Make Climate Change Law? // Transnational Environmental Law. 9, no. 1 (2020): 55–75. URL: https://doi.org/10.1017/s2047102519000360.
Denizeau-Lahay, Charlotte. La Genèse Du Bloc De Constitutionnalité // Les catégories de normes constitutionnelles. Titre VII, no. N° 8 (avril 2022). URL: https://tinyurl.com/2566qefk.
Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 8th ed. London: MacMillan, 1926.
Dixon, Rosalind, and Landau, David. Introduction: A Dark Side of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press (UK), 2021.
Doyle, William. The Oxford Handbook of the Ancien Régime. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Ely, John Hart. Democracy and Distrust a Theory of Judicial Review. Harvard University Press, 1980. DOI: 10.2307/j.ctv102bj77. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctv102bj77.
Fallon*, Richard H.* Legitimacy and the Constitution // Harvard Law Review. 118, no. 6 (2005): 1787–853. URL: http://www.jstor.org/stable/4093285.
Frazer, James George. The Golden Bough a Study in Magic and Religion / Ed. by Inc NetLibrary. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Ginsburg, Tom, and Versteeg, Mila. Why Do Countries Adopt Constitutional Review? // Journal of law, economics, & organization. 30, no. 3 (2014): 587–622. URL: https://doi.org/10.1093/jleo/ewt008.
Hamilton, Alexander. The Federalist Papers / Ed. by Inc NetLibrary. Champaign, IL; Boulder, Colo.: Project Gutenberg, NetLibrary, 1990.
Hirschl, Ran. Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198714514.001.0001.
Jestaedt, Matthias; Oliver Lepsius; Christoph Möllers; and Christoph Schönberger. The German Federal Constitutional Court: The Court without Limits. 1 ed. Oxford: Oxford University Press, 2020. DOI: 10.1093/oso/9780198793540.001.0001.
Kirby, James. A. V. Dicey and English Constitutionalism // History of European ideas. 45, no. 1 (2019): 33–46. URL: https://doi.org/10.1080/01916599.2018.1498012.
Kumm, Mattias. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based Proportionality Review // Law & ethics of human rights. 4, no. 2 (2010): 142–75. URL: https://doi.org/10.2202/1938-2545.1047.
Linos, Katerina, and Melissa Carlson. Qualitative Methods for Law Review Writing // The University of Chicago law review. 84, no. 1 (2017): 213–38.
Martial, Mathieu. La Justice Constitutionnelle En France, Du Rejet à L’adoption // Revista Jurídica da UFERSA. 6, no. 12 (2022): 204–16. URL: https://doi.org/10.21708/issn2526-9488.v6.n12.p204-216.2022.
Meguro, Maiko. State of the Netherlands V. Urgenda Foundation // The American journal of international law. 114, no. 4 (2020): 729–35. URL: https://doi.org/10.1017/ajil.2020.52.
Orford, Anne. In Praise of Description // Leiden Journal of International Law. 25, no. 3 (2012): 609–25. DOI: 10.1017/S0922156512000301. URL: https://www.cambridge.org/core/product/C8D879D8875229DFE4F1E0C34B4EA55B.
The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press, 2012. URL: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.001.0001.
Popelier, Patricia; Glavina, Monika; Baldan, Federica; and Zimmeren, Esther van. A Research Agenda for Trust and Distrust in a Multilevel Judicial System // Maastricht journal of European and comparative law. 29, no. 3 (2022): 351–74. URL: https://doi.org/10.1177/1023263X221096026.
Proust, Marcel. Contre Sainte-Beuve : Précédé De Pastiches Et Mélanges Et Suivi De Essais Et Articles / Edited by Pierre Clarac. Paris, 1971.
Rosenfeld, Michel. 38 B. Comparative Constitutional Analysis in United States Adjudication and Scholarship // The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press, 2012. URL: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0003.
Ross, Bertrall L. Democracy and Renewed Distrust: Equal Protection and the Evolving Judicial Conception of Politics // California law review. 101, no. 6 (2013): 1565–640.
Roux, Theunis, and J. Hagan. Comparative Constitutional Studies: Two Fields or One? // Annual review of law and social science. 13, no. 1 (2017): 123–39. URL: https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113534.
Sachs, Albie. We, the People. Insights of an Activist Judge. Wits University Press, 2016. DOI: 10.18772/12016119988. URL: http://www.jstor.org/stable/10.18772/12016119988.
Serrand, Pierre. La Question Prioritaire De Constitutionnalité // Giornale di storia costituzionale. 27 (2014): 163–76.
Sonntag, Niklas. An Introduction to Swedish Constitutional Law // Vienna online journal on international constitutional law. 4, no. 4 (2010): 663–81. URL: https://doi.org/10.1515/icl-2010-0408.
Thomas, St., Aquinas. Summa Theologica Part I-II (Pars Prima Secundae). Jazzybee Verlag, 2012.
Tamanaha, Brian Z. How an Instrumental View of Law Corrodes the Rule of Law // DePaul Law Review. 56, no. 2 (2007). URL: https://via.library.depaul.edu/law-review/vol56/iss2/12.
Theil, Stefan. Cautious Scrutiny: The Federal Climate Change Act Case in the German Constitutional Court // Modern law review. 86, no. 1 (2023): 263–75. URL: https://doi.org/10.1111/1468-2230.12746.
Troper, Michel. À Quoi Sert La Séparation Des Pouvoirs ? Le Point De Vue De La Théorie Du Droit // La séparation des pouvoirs. Titre VII N° 3. (2019). URL: https://tinyurl.com/2agwjc5u.
Troper, Michel. L’histoire Du Droit, Le Droit Comparé Et La Théorie Générale Du Droit // Revue internationale de droit comparé. 67, no. 2 (2015): 331–40. URL: https://doi.org/10.3406/ridc.2015.20504.
Troper, Michel. Sovereignty and Natural Law in the Legal Discourse of the Ancien Régime // Theoretical inquiries in law. 16, no. 2 (2015): 315–36. URL: https://doi.org/10.1515/til-2015-103.
Tushnet, Mark. Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law // Comparative Constitutional Law. Second ed. Cheltenham: Edward Elgar, 2018.
Tushnet, Mark V. Review of Origins of the Bill of Rights, and: Constitutional Construction: Divided Powers and Constitutional Meaning // Journal of Interdisciplinary History. Vol. 31. No. 2, 2000. P. 290–291. Project MUSE, https://muse.jhu.edu/article/16076.
Vyhnánek, Ladislav; Blechová, Anna; Bátrla, Michael; Míšek, Jakub; Novotná, Tereza; Reichman, Amnon; and Harašta, Jakub. The Dynamics of Proportionality: Constitutional Courts and the Review of Covid-19 Regulations // German law journal. 25, no. 3 (2024): 386–406. URL: https://doi.org/10.1017/glj.2023.96.
Авакьян С. А. Российский конституционализм: размышления о юбилейных итогах и перспективах // Конституционное и муниципальное право. 1 (2024). URL: https://doi.org/10.18572/1812-3767-2024-1-2-12.
Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012.
Бабурин С. Н. Аксиологическая трансформация современного российского конституционализма // Государство и право. No. 12 (2023). URL: https://doi.org/10.31857/S102694520029289-8.
Добрынин Н. М. Российский конституционализм в условиях новой геополитической реальности: вехи и векторы // Государство и право. No. 9 (2023). URL: https://doi.org/10.31857/S102694520027638-2.
Клишас А. А. Публичное право стран Латинской Америки. В 2 тт. Т. 1. Международные отношения, 2016.
Кобзарь-Фролова М. Н. О конституциализации административных правоотношений // Государство и право. No. 12 (2023). URL: https://doi.org/10.31857/S102694520029366-3.
Конева Н. С. Конституционализация традиционных ценностей: диалог общества и государства // Конституционное и муниципальное право. No. 12 (2023). URL: https://doi.org/10.18572/1812-3767-2023-12-17-19.
Кузнецов Д. А. Дело «Urgenda»: проблема разделения властей в контексте имплементации экологических обязательств государства (часть I) // Журнал конституционного правосудия. 3 (81) (2021). URL: https://doi.org/10.18572/2072-4144-2021-4-30-38.
Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: Юстицифнорм, 2010.
Чертков А. Н. Государственная власть на современном этапе: вызовы, функции, ориентиры совершенствования // Конституционное и муниципальное право. No. 11 (2023). URL: https://doi.org/10.18572/1812-3767-2023-11-12-16.
DOI: 10.55167/d2da57fc463e
Frazer, James George. The golden bough a study in magic and religion / Ed. Inc NetLibrary. Oxford: Oxford University Press, 1998. ↩︎
Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: Юстицифнорм, 2010. ↩︎
Примеры таких текстов приведены во второй части эссе. ↩︎
О самом термине «экологическое право», «право окружающей среды» также можно долго спорить. Это не предмет данного текста, поэтому оставим эту дискуссию за скобками. ↩︎
Thomas, St. Aquinas. Summa Theologica Part I-II (Pars Prima Secundae). Jazzybee Verlag, 2012. Question 39. ↩︎
Tushnet, Mark. Advanced introduction to comparative constitutional law / Second edition. Comparative constitutional law. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. ↩︎
Dixon, Rosalind, and Landau, David. Introduction: A Dark Side of Comparative Constitutional Law. United Kingdom: Oxford University Press, 2021. ↩︎
The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press, 2012. URL: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.001.0001. Chapter 1. ↩︎
Ibid. Chapter 2. ↩︎
Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. С. 11, 21. ↩︎
Hirschl, Ran. Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law / First edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. Chapter 6. ↩︎
Инструментальный подход к праву и к изучению правовых явлений кажется по своей природе противоречащим идеалистическому в праве и не всегда соотносящимся с принципом верховенства права. См., например: Tamanaha, Brian Z. How an Instrumental View of Law Corrodes the Rule of Law // DePaul Law Review. 56, no. 2 (2007). URL: https://via.library.depaul.edu/law-review/vol56/iss2/12. ↩︎
См., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2020 года № 49-П, в котором суд приводит такой пассаж: «Необходимость принятия наряду с другими мерами борьбы с пандемией мер, связанных с ограничением свободы передвижения, подтверждается опытом других государств. Меры изоляции и самоизоляции граждан по месту их проживания (пребывания), получившие международное обозначение “lockdown”, не являются особенностью Российской Федерации. В апреле 2020 года они в той или иной степени применялись более чем в 90 странах мира и, таким образом, охватывали более половины населения планеты». ↩︎
Roux, Theunis, and Hagan, J. Comparative Constitutional Studies: Two Fields or One? // Annual review of law and social science. 13, no. 1 (2017). URL: https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113534. ↩︎
См., например: Linos, Katerina, and Carlson, Melissa. Qualitative Methods for Law Review Writing // The University of Chicago law review. 84, no. 1 (2017). ↩︎
Tushnet, Mark. Advanced introduction to comparative constitutional law. ↩︎
Такой анализ можно назвать «социологическим» и во многом основанным на идеях Макса Вебера. См. подробнее: Fallon, Richard H. Legitimacy and the Constitution // Harvard Law Review. 118, no. 6 (2005). P. 1795. URL: http://www.jstor.org/stable/4093285. ↩︎
Яркий пример — исследование феномена пропорционального анализа, сравнительно-правовому изучению которого посвящены несколько выдающихся юридических текстов: Barak, Aharon. Proportionality and Principled Balancing // Law & ethics of human rights. 4, no. 1 (2010). URL: https://doi.org/10.2202/1938-2545.1041.; Kumm, Mattias. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based Proportionality Review // Law & ethics of human rights. 4, no. 2 (2010). URL: https://doi.org/10.2202/1938-2545.1047. ↩︎
Roux and Hagan. Comparative Constitutional Studies: Two Fields or One? ↩︎
См.: Dicey, Albert Venn. Introduction to the study of the law of the constitution / 8. ed. London: MacMillan, 1926. ↩︎
Troper, Michel. L’histoire du droit, le droit comparé et la théorie générale du droit // Revue internationale de droit comparé. 67, no. 2 (2015). URL: https://doi.org/10.3406/ridc.2015.20504. ↩︎
Sonntag, Niklas. An Introduction to Swedish Constitutional Law // Vienna online journal on international constitutional law. 4, no. 4 (2010). URL: https://doi.org/10.1515/icl-2010-0408. ↩︎
Bingham, Tom. The rule of law. London, New York: Allen Lane, 2010. См. также доклад Комитета Совета Европы по правовым вопросам и правам человека от 6 июля 2007 года «The principle of the Rule of Law», в котором детально обсуждается содержание принципа в разных государствах СЕ. URL: https://tinyurl.com/23gflg6f. ↩︎
Marbury v Madison, 5 U.S. 1 Cranch 137. 1803. Однако не стоит забывать, что, если в США такая конституционная революция произошла в самом начале XIX века, то, например, в Израиле (с поправкой на молодость нынешней итерации еврейского государства) такая революция случилась только в конце XX в. в решении Верховного суда под председательством Аарона Барака, подтвердившего высший статус основного закона «О достоинстве», и obiter dictum рассказавшего о легитимности Кнессета. См. подробнее: United Mizrahi Bank v. Migdal Cooperative Village CA 6821/93. URL: https://larc.cardozo.yu.edu/iscp-opinions/391. Мне при этом кажется, что и у российского Конституционного Суда, а вернее КС РСФСР тоже было своё «дело Марберри» — это т. н. «дело МГБ», в котором Суд запретил создание единого министерства государственной безопасности (Постановление №1-П-У от 14 января 1992 года). ↩︎
Например, об этом, как о вполне свершившимся факте, говорил бывший председатель Верховного суда Израиля Аарон Барак: Barak, Aharon. The Judge in a Democracy. Princeton University Press, 2006. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt7szb4. ↩︎
См.: Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. C. 216–224. ↩︎
Концепция была разработана ещё в 80-е годы прошлого века и с тех пор занимает многих учёных. См.: Ely, John Hart. Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review. Harvard University Press, 1980. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctv102bj77. См. также: Ross, Bertrall L. Democracy and Renewed Distrust: Equal Protection and the Evolving Judicial Conception of Politics // California law review. 101, no. 6 (2013); Popelier, Patricia et al. A research agenda for trust and distrust in a multilevel judicial system // Maastricht journal of European and comparative law. 29, no. 3 (2022). URL: https://doi.org/10.1177/1023263X221096026. ↩︎
Например, Розенфельд обращает внимание на необходимость в целях корректного сравнения изучить содержание прав человека в конкретной юрисдикции (Rosenfeld, Michel. 38 B. Comparative Constitutional Analysis in United States Adjudication and Scholarship // The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press, 2012. URL: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0003); Диксон предлагает обращать внимание на время, в которое тот или иной конституционный текст был написан (Dixon and Landau. Introduction: A Dark Side of Comparative Constitutional Law) и т. д. ↩︎
Пандемия COVID-19 дала много материала для исследователей судебной власти и меняющегося отношения судов к ограничениям прав человека и, например, к применению анализа пропорциональности ограничительных мер. См., например: Vyhnánek, Ladislav et al. The Dynamics of Proportionality: Constitutional Courts and the Review of COVID-19 Regulations // German law journal. 25, no. 3 (2024). URL: https://doi.org/10.1017/glj.2023.96. ↩︎
Hirschl. Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law. ↩︎
Linos and Carlson. Qualitative Methods for Law Review Writing. ↩︎
De staat der Nederlanden (ministerie van economische zaken en klimaat) tegen stichting Urgenda. ECLI:NL:HR:2019:2006. URL: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006. ↩︎
Подробнее см.: Кузнецов Д. А. Дело «Urgenda»: проблема разделения властей в контексте имплементации экологических обязательств государства (часть I) // Журнал конституционного правосудия. 3 (81) (2021). URL: https://doi.org/10.18572/2072-4144-2021-4-30-38. ↩︎
Например, Ook internationaal veel belangstelling voor uitspraak Urgenda-zaak // NOS. 20 December 2019. URL: https://tinyurl.com/228ln6am [accessed: 29 January 2023]; Dutch supreme court upholds landmark ruling demanding climate action // The Guardian. 20 December 2019. URL: https://tinyurl.com/27dyjtnm; Meguro, Maiko. State of the Netherlands v. Urgenda Foundation // The American journal of international law. 114, no. 4 (2020). URL: https://doi.org/10.1017/ajil.2020.52; Burgers, Laura. Should Judges Make Climate Change Law? // Transnational Environmental Law. 9, no. 1 (2020). URL: https://doi.org/10.1017/s2047102519000360. ↩︎
ECLI:NL:HR:2019:2006 §§ 5.2.1-5.5.3. ↩︎
Например, на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, ETS 5, 4 November 1950. ↩︎
ECLI:NL:HR:2019:2006 §§ 5.2.1-5.5.3. ↩︎
Conseil d’État, 6ème — 5ème chambres réunies. ECLI:FR:CECHR:2020:427301.20201119. URL: https://tinyurl.com/2yubbnc4; Demanda Generaciones Futuras v Minambiente. STC4360-2018. English translation. URL: https://tinyurl.com/2b46y67p; Anton Foley and others v Sweden (Aurora Case), pending. URL: https://tinyurl.com/2co468hl; Cour d’appel de Bruxelles (Brussels Court of Appeal) 30 November 2023, Klimaatzaak and others v the Belgian State, Wallonia, Flanders and the Brussels Region. URL: https://www.klimaatzaak.eu/en. ↩︎
BVerfG, Order of the First Senate of 24 March 2021 — 1 BvR 2656/18 -, paras. 1-270. URL: https://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618en.html. ↩︎
Ibid. §§ 144, 164, 171. ↩︎
Ibid. § 182. ↩︎
Ibid. §§ 192, 195. ↩︎
STC4360-2018. Op. cit. ↩︎
Ibid. § 5.3. ↩︎
Ibid. ↩︎
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, na de wijziging van 2018. URL: https://tinyurl.com/2ddjj55z. Art. 120. ↩︎
Theil, Stefan. Cautious scrutiny: The Federal Climate Change Act case in the German constitutional court // Modern law review. 86, no. 1 (2023). URL: https://doi.org/10.1111/1468-2230.12746. ↩︎
См. также: Hirschl. Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law. Chapter 5. ↩︎
Возвращаясь к постановлению КС Колумбии, вспомним также параллельную практику ЕСПЧ, который в мае 2024 года принял одно решение, в котором отказал заявителям схожего возраста в удовлетворении их требований в правительству Португалии на том основании, что они не исчерпали внутренние средства правовой защиты и не смогли доказать статус «жертвы» предполагаемого конвенционного нарушения (ECtHR. Duarte Agostinho and Others v Portugal and Others (dec.) no. 39371/20, 9 April 2024). Также ЕСПЧ принял постановление против Швейцарии, в котором, наоборот, нашёл нарушение права на жизнь пожилых женщин, которым угрожает изменение климата (ECtHR. Application no. 53600/20 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and others v Switzerland [GC] 9 April 2024. See also Lestas, G. Did the Court in Klimaseniorinnen create an actio popularis? EJIL: Talk! 13 May 2024. URL: https://tinyurl.com/24brxbzl. Возникает вопрос: насколько в принципе сравнимы эти решения, которые с внешней точки зрения крайне похожи, — климатический интерес, заявители-активисты, проблемы с locus standi. Если воспользоваться критериями сравнительного правового метода, мы сможем прийти к каким-то выводам, но большой вопрос будет в том, насколько они будут для нас информативны, если мы хотим что-то понять про функционирование исследуемых судебных органов. ↩︎
Клишас А. А. Публичное право стран Латинской Америки. В 2 тт. Т. 1. Международные отношения, 2016. ↩︎
Вот лишь несколько примеров подобных наукообразных публикаций: Кобзарь-Фролова М. Н. О конституциализации административных правоотношений // Государство и право. No. 12 (2023). URL: https://doi.org/10.31857/S102694520029366-3; Бабурин С. Н. Аксиологическая трансформация современного российского конституционализма // Государство и право. No. 12 (2023). URL: https://doi.org/10.31857/S102694520029289-8; Авакьян С. А. Российский конституционализм: размышления о юбилейных итогах и перспективах // Конституционное и муниципальное право. 1 (2024). URL: https://doi.org/10.18572/1812-3767-2024-1-2-12; Чертков А. Н. Государственная власть на современном этапе: вызовы, функции, ориентиры совершенствования // Конституционное и муниципальное право. No. 11 (2023). URL: https://doi.org/10.18572/1812-3767-2023-11-12-16. ↩︎
Hirschl. Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law. P. 221. ↩︎
Ещё несколько примеров из недавних русскоязычных наукообразных публикаций, иллюстрирующих мою идею: Конева Н. С. Конституционализация традиционных ценностей: диалог общества и государства // Конституционное и муниципальное право. No. 12 (2023). URL: https://doi.org/10.18572/1812-3767-2023-12-17-19; Добрынин Н. М. Российский конституционализм в условиях новой геополитической реальности: вехи и векторы // Государство и право. No. 9 (2023). URL: https://doi.org/10.31857/S102694520027638-2. ↩︎
В виду того, что в русском языке термина устоялся, я буду использовать именно его, хотя, как представляется, английский constitutional review шире по объему, и, возможно, термин «контроль конституционности» мог быть более корректным аналогом в русском языке. И в этой переводческой проблеме мы снова обращаемся к лингвистическому измерению сравнительного метода, что само по себе достойно отдельного обсуждения. См, подробнее: Tushnet, Mark V. Review of Origins of the Bill of Rights, and: Constitutional Construction: Divided Powers and Constitutional Meaning // Journal of Interdisciplinary History. Vol. 31. No. 2, 2000. P. 290–291. Project MUSE, https://muse.jhu.edu/article/16076; Allan, T. R. S. Constitutionalism at Common Law: The Rule of Law and Judicial Review // Cambridge law journal. 82, no. 2 (2023). URL: https://doi.org/10.1017/S000819732300017X. ↩︎
Ginsburg, Tom, and Versteeg, Mila. Why Do Countries Adopt Constitutional Review? // Journal of law, economics, & organization. 30, no. 3 (2014). URL: https://doi.org/10.1093/jleo/ewt008. ↩︎
Такой подход не отменяет того, что научные публикации могут быть важными и интересными, например: Jestaedt, Matthias et al. The German Federal Constitutional Court: The Court Without Limits / 1 ed. Oxford: Oxford University Press, 2020. ↩︎
В российской правовой науке описательный (дескриптивный) подход кажется дискредитировавшим себя ввиду огромного количества публикаций с описанием нормативных правовых актов или другими подобными текстами. Вместе с тем добросовестное описание правового явления имеет и самостоятельную научную ценность. См., например: Orford, Anne. In Praise of Description // Leiden Journal of International Law. 25, no. 3 (2012). URL: https://doi.org/10.1017/S0922156512000301, https://www.cambridge.org/core/product/C8D879D8875229DFE4F1E0C34B4EA55B. ↩︎
Kirby, James. A. V. Dicey and English constitutionalism // History of European ideas. 45, no. 1 (2019). URL: https://doi.org/10.1080/01916599.2018.1498012. ↩︎
Dicey. Introduction to the study of the law of the constitution. ↩︎
United Kingdom: Human Rights Act 1998. ↩︎
Bingham. The rule of law. ↩︎
Troper, Michel. Sovereignty and Natural Law in the Legal Discourse of the Ancien Régime // Theoretical inquiries in law. 16, no. 2 (2015). URL: https://doi.org/10.1515/til-2015-103; Troper. L’histoire du droit, le droit comparé et la théorie générale du droit. ↩︎
Doyle, William. The Oxford handbook of the Ancien Régime. Oxford: Oxford University Press, 2012. ↩︎
Denizeau-Lahay, Charlotte. La genèse du bloc de constitutionnalité // Les catégories de normes constitutionnelles. Titre VII, no. N° 8 (avril 2022). URL: https://tinyurl.com/2566qefk. ↩︎
Serrand, Pierre. La question prioritaire de constitutionnalité // Giornale di storia costituzionale. 27 (2014). ↩︎
Hamilton, Alexander. The federalist papers / Ed. Inc NetLibrary. Champaign, IL; Boulder, Colo.: Project Gutenberg Boulder; NetLibrary, 1990. ↩︎
Bellamy, Richard. Which Republicanism, Whose Freedom? // Political Theory. 44, no. 5 (2016). URL: https://doi.org/10.1177/0090591716663361. ↩︎
Martial, Mathieu. La justice constitutionnelle en France, du rejet à l’adoption // Revista Jurídica da UFERSA. 6, no. 12 (2022). URL: https://doi.org/10.21708/issn2526-9488.v6.n12.p204-216.2022; Troper, Michel. À quoi sert la séparation des pouvoirs ? Le point de vue de la théorie du droit // La séparation des pouvoirs. Titre VII N° 3 (2019). URL: https://tinyurl.com/2agwjc5u. ↩︎
Présentation générale. URL: https://tinyurl.com/28fo7usa. ↩︎
Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. URL: https://tinyurl.com/29mf4cuw. ↩︎
См., например: Décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024. URL: https://tinyurl.com/24a44lju. ↩︎
Снова обратимся к самому известном решению ВС США Marbury v Madison. ↩︎
См. подробнее: Sachs, Albie. We, the People. Insights of an activist judge. Wits University Press, 2016. URL: http://www.jstor.org/stable/10.18772/12016119988. ↩︎
Самое известное эссе на эту тему принадлежит Марселю Прусту: Proust, Marcel. Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles / Ed. Pierre Clarac. Paris, 1971. ↩︎
Меня, например, всегда удивляло насколько схожи по форме текста — расположению параграфов, нумерации, формулировкам в длинных предложениях — Конституционный Суд РФ и Конституционный суд Италии, при том, что едва ли эти судебные органы служили или служат образцами для подражания друг для друга. ↩︎